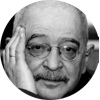Лурье-трип
Опубликовано 2025-04-23 04:00 , обновлено 2025-04-23 04:42
Первая визионерская экскурсия Льва Яковлевича по Петербургу, которая работает как машина времени
https://www.sobaka.ru/city/city/197896
Лев Лурье — писатель, публицист, главный городской краевед, лучший знаток петербуржцев всех времен — 19 апреля отмечает 75! «Петербург — гораздо больше, чем просто Петербург», — утверждают юбиляр и его ученица, друг, соавтор и архитектурный критик Мария Элькина. Уже очень скоро выйдет их совместно написанная книга «Вся история Петербурга. От потопа и варягов до Лахта Центра и гастробаров». Всё, что стоит знать об истории города, будет собрано под одной обложкой: как отступало Литориновое море, много ли зарабатывал Доменико Трезини, чем развлекали себя гвардейские офицеры в 1870-е годы, что за выдающиеся архитекторы придумали ленинградские пятиэтажки. По мотивам книги для Собака.ru её авторы сделали гид по самым интересным районам города. Лев Лурье и Мария Элькина уверены: нам давно пора сделать Коломну и Нарвскую такими же брендами, как готический квартал в Барселоне или Сохо в Лондоне.

Мария Элькина
Архитектурный критик
Петербург невозможно охватить одним взглядом, понять как нечто цельное. Он состоит, как и любой мегаполис, из районов с разной историей, атмосферой и перспективами. Именно в этом разнообразии, сосуществовании разных культурных, архитектурных и социальных реалий и заключается большая, пока не познанная в полной мере сила. Важно понимать: районы или даже отдельные улицы могут быть не менее популярны, чем целые мегаполисы. Мало кто никогда не слышал о магазинах на Пятой авеню на Манхэттене или комьюнити мигрантов в берлинском Нойкельне. Петербург до сих пор не пытался всерьез увидеть величие отдельных своих частей. Но это ошибка, которую нужно немедленно начать исправлять.
Во-первых, потому что никому не нравится стереотипное восприятие города, его сведение к Ростральным колоннам и Невскому проспекту. Единственное противоядие — создание других ярких образов, которые и жителям, и туристам помогут понимать город глубже. Во-вторых, органичное развитие отталкивается от особенностей и возможностей каждой локации, его задача и заключается в том, чтобы как можно более ярко их раскрыть.
Мы написали «Всю историю Петербурга» с естественным желанием уместить все сложности и хитросплетения в одном томе. Однако на деле речь идет не о какой-то одной истории, а о множестве — и главное, об истории множества иногда совершенно непохожих друг на друга мест, все из которых расположены в административных границах Петербурга.
Наша визионерская экскурсия — Лурье-трип — проведет вас по семи частям Петербурга, где гений места присутствует наиболее ощутимо, и тени, отбрасываемые прошлым и будущим, разглядеть проще всего. И праздничное: в качестве дополнения к гиду по петербургским локациям Лев Лурье рассказал о том, где находится его самое любимое место в Петербурге.
К югу от Большой Пушкарской улицы — СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Считается, что Петербург — город Нового времени: широкие улицы, регулярные планировки. Это правда, но не полная. На самом деле, существует часть Петербурга, которая имеет средневековое устройство. Дорожная сеть в самых старых кварталах Петроградской стороны напоминает архипелаг, где улицы-реки текут, не подчиняясь строгой геометрии.
Если у вас есть друзья-москвичи, которые устали от рациональности Петербурга, этих бесконечных стройных коридоров улиц и проспектов, отведите их в кварталы, лежащие между Большой Пушкарской улицей и Кронверкским проспектом. Все эти Саблинские, Зверинские, Татарский переулок, Съезжинские дадут им почувствовать себя в более привычной атмосфере — что-то здесь будет напоминать Замоскворечье или Арбатские переулки.
Здесь есть своя закономерность. Как известно, Пётр I лично издавал указы относительно того, как нужно строить город. Улицы он велел прокладывать прямые, а дома ставить непосредственно вдоль них в одну линию. Однако как бы подданные ни боялись грозного царя, многовековые привычки оказывались сильнее. К тому же Пётр I не мог вести каждодневный надзор за возведением Петербурга — большую часть времени он проводил на войне.
Первый административный центр новой столицы располагался на нынешней Петроградской стороне, вокруг него и обустраивались переселенцы. Свою жизнь они организовывали так, как привыкли — стихийными нерегулярными околотками, напоминающими русские деревни и районы Москвы, которые назывались слободами. Считается, что именно хаотичная застройка стала одной из причин того, что Пётр в начале 1710-х годов решил перенести центр города на Васильевский остров.
Удивительно, но организация среды сохранилась с тех далёких времён. Несмотря на то, что редкое здание на Петроградской старше 150 лет, многие её улицы проходят там же, где и в XVIII веке. Они складываются в лабиринт, где легко заблудиться и приятно подолгу гулять без цели — то и дело набредая на небольшую кофейню или симпатичнейший бар.
Средневековый город сегодня — местность, где двигаться удобно в первую очередь пешеходам, есть множество магазинов, кафе с уличными столиками. На Петроградской к тому же счастливо сохранилось некоторое количество скверов и просто небольших общественных пространств. Формула будущего самой старой части Петербурга очевидна — шире тротуары, больше зелени, больше общественных пространств и уличных террас.
Юг Петроградской мог бы быть чем-то вроде мадридской Маласаньи — смесью старых улиц с современной барной, гастрономической и художественной культурой.
Вокруг Мариинского театра — БОГЕМНО-БУРЖУАЗНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Северная часть коломенского архипелага — ближе всего к центру города. Здесь изначально жили не столько приезжие провинциалы, сколько работники морского ведомства и военные. В районе находились казармы Гвардейского морского экипажа, Крюковы казармы, по соседству — казармы лейб-гвардии Конного полка. Совсем рядом располагались престижные особняки Английской набережной и Николаевский дворец.
Со временем место стало еще и богемным. В Мариинском театре (а до его постройки — в Большом, находившемся на месте Консерватории) вечерами собирался аристократический гвардейский Петербург, «балетная публика». Рядом селились знаменитые танцовщицы и музыканты, профессора Консерватории. Недалеко от театра построили два великокняжеских дворца — великих князей Александра Михайловича (нынешний Университет Лесгафта) и Алексея Александровича (сейчас — Дом музыки). Здешние доходные дома и особняки много респектабельнее тех, что мы видим на юге Коломны. Словом, это был идеальный приют богемной буржуазии, а небольшая неустроенность даже способствовала общей оживленной атмосфере.
В советские годы от флёра просвещённой легкомысленности почти ничего не осталось, но неожиданно он вернулся прямо на наших глазах — в 2020-е. Мариинский театр разросся и продолжает быть местом досуга успешных и состоятельных. Вокруг постепенно открывается всё больше заведений, рассчитанных на тех, кто хочет поужинать после спектакля.
Настоящей революцией в современной истории Коломны оказалось открытие Новой Голландии, превратившейся в главное место досуга в Петербурге — с ресторанами и кафе, зелёными лужайками, книжными и дизайнерскими магазинами. Окончательным прорывом стало пространство Hideout на улице Римского-Корсакова в казармах Гвардейского экипажа — оно притянуло искушённую публику и сформировало полноценный прогулочный маршрут по этой части города. Теперь пройтись от Адмиралтейского канала до Никольского морского собора и булочной Aster — такая же необходимая часть туристической программы в Петербурге, как посещение Латинского квартала в Париже.
Окрестности площади Тургенева (Покровской) — ПОСТОЯНСТВО ПЕРИФЕРИИ
В классическом гоголевском описании Коломны Николай Васильевич охарактеризовал эту периферию петербургского центра так: «Здесь всё тишина, всё отставка». Трудно поверить, но за почти двести лет его слова всё ещё не утратили правды. Вплоть до революции Коломна оставалась окраиной, чем-то вроде современных Шушар или Мурина. Молодой человек, приехавший в Петербург на ловлю счастья и чинов, селился здесь потому, что арендная плата была низкой, а до центра добраться можно было минут за 40. Здесь начинали свою карьеру молодые Александр Пушкин и Евгений Баратынский.
По мере достижения жизненного успеха молодые дарования перекочёвывали ближе к парадным площадям и в конце концов проводили пристойную заслуженную старость где-то около Марсова поля. Неудачники же оставались в Коломне на всю жизнь. Их количество постепенно нарастало, и они составляли основной субстрат здешнего населения. Такая социальная однородность, кроме всего прочего, обеспечила ещё и некоторую инертность: городская среда менялась куда медленнее, чем в более престижных и оживлённых районах.
Поразительным образом атмосфера Коломны сохранилась и до нашего времени. Здесь до сих пор нет метро, важным видом городского транспорта является трамвай. Как показали исследования социологов, процент коренного населения в этой части Адмиралтейского района выше, чем где бы то ни было в городе. Шанс родиться и умереть в Коломне больше, чем в Купчино или на Васильевском острове.
Посмотрите на Покровский сквер: здесь на скамейках всегда сидят компании пожилых людей, потягивающих пиво или портвейн и ведущих мирные беседы. Они познакомились, вероятно, ещё в детском саду, работали где-нибудь на Адмиралтейском заводе, вышли на пенсию и теперь вспоминают былое с соседями и сослуживцами. Семейная атмосфера.
Для тех, кто не живёт в этой части Коломны, она представляет собой, возможно, самую аутентичную часть старого Петербурга. Между каналом Грибоедова и Фонтанкой пейзажи XIX века не тронуты большим количеством модных заведений и магазинов, доходные дома не преобразуются в дорогие жилые комплексы. Время здесь течёт медленно, и легко почувствовать себя наравне с теми, кто гулял по Петербургу и Ленинграду десятилетия и даже столетие назад.
К аутентичному району опасно что-либо добавлять: любое, особенно популярное, новшество грозит потерей главного качества. Коломна больше, чем какая-либо другая часть старого города, заставляет задуматься о защите от сетевой торговли, которую практикуют в итальянских городах. В старинной части Сиракуз вы не обнаружите ни одного супермаркета или известного на весь мир фастфуда. Появление локального бизнеса может одинаково благоприятно сказаться и на атмосфере, и на социальном климате Коломны.
Большая Морская улица — ПОЧТИ БЫВШИЙ АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ НЕОБРЕТЁННЫЙ ПРОМЕНАД
Хотя главной улицей Петербурга считается Невский проспект, он никогда не был по-настоящему фешенебельным. Это скорее Оксфорд-стрит, чем Елисейские поля или Пятая авеню: на Невском — каждой социальной твари по паре. Тут тебе и карманники, и известные всей стране артисты, и Анна Каренина с Бетси Тверской, покупающие брюссельские кружева и английский бостон в Большом Гостином дворе. Познавательно, но не безопасно.
Настоящая «публика» гуляла по Английской, Французской, Дворцовой и Адмиралтейской набережным, заглядывала на Большую Конюшенную. Но главной аристократической улицей считалась Большая Морская. Здесь — лучшие рестораны, в том числе Кюба (Большая Морская, 16, — там, где сейчас работают Bonch и King Pong), самые изысканные ювелиры — Болин (Большая Морская, 10) и Фаберже (знаменитое здание на Большой Морской, 24), лучшие ателье — Иды Лидваль (Большая Морская, 27) и «Анри». Любители покупали акварели Альберта Бенуа в Обществе поощрения художеств (Большая Морская, 38, сейчас — Союз художников). Здесь было не встретить ни пьяного, ни оборванца: на каждом углу стояли городовые и шпики в гороховых пальто.
Современная Большая Морская куда демократичнее императорской. Лучшие художественные работы давно выставляются не в Союзе художников, заведения быстрого питания и близость к достопримечательностям притягивают самую разношёрстную публику. Но всё-таки атмосфера роскоши не исчезла вовсе: она сохранилась в гостинице «Астория» и возрождается в красивых ресторанах, концентрация которых — от Sea, Signora Антонио Фреза до Jerome Андрея Мусихина и Кати Яценко — в последние годы выросла до высокой.
Былую славу аристократического променаду Большой Морской не вернуть — и не надо. Но всё же стоит помнить, что улица исторически является таким же брендом, как лондонская Бонд-стрит или венская Грабен. Самая изящная роль Большой Морской сегодня — короткий путь от Главного штаба, где Эрмитаж выставляет современное искусство, до выставочного зала «Манеж», делающего в последние годы моднейшие городские выставки. Сам бог велел добавить улице артистического и дизайнерского флёра — актуальных художественных галерей, магазинов редких брендов одежды и предметов интерьера. Такая метаморфоза — из аристократической в артистическую — самое лучшее, что можно представить себе для района по соседству с бывшей императорской резиденцией.
Выборгская сторона между Пироговской набережной и Лесным проспектом — НЕОБРЕТЁННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙ
К сожалению, экономические треволнения последних десятилетий и неразумный девелопмент привели к тому, что мы отчасти потеряли наш русский Манчестер. Кирпичные заводы Выборгской стороны с окружавшими их городками для рабочих представляли собой среду с особенной брутальной эстетикой. Крейсер «Аврора», стоящий неподалёку, напротив через Неву, напоминает, что в этих кварталах завязались события 1905, а потом и 1917 года. Именно с запада Выборгской стороны началась Февральская революция, вылившаяся в свержение царской власти.
Во многих городах мира такие промышленные зоны XIX века превратили в модные, яркие и дорогие городские районы. Здания заводов трансформируют в музеи и креативные пространства, рядом разбивают парки и строят выдающиеся современные здания. В Петербурге в отсутствие стратегического планирования застройки, если заводы и трансформируются, то в довольно заурядные жилые комплексы.
Тем не менее сохранившиеся индустриальные здания всё ещё производят впечатление мрачной внушительностью. Главные из них — сохранившиеся корпуса заводов «Невка», «Новый Лесснер» и Людвига Нобеля. От последнего остался ещё и фрагмент жилого городка для рабочих, в своё время ставшего отличным примером хорошего социального жилья.
В идеале Выборгская сторона могла бы быть чем-то вроде лондонского Саутуарка, где старую электростанцию превратили в знаменитую галерею Tate Modern, а по соседству со старинными кирпичными зданиями появляются дорогие (и часто красивые!) офисы и жилые дома.
Аптекарский остров между Ботаническим садом и Каменноостровским проспектом — СВОБОДНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ, АВАНГАРДНЫЙ
Аптекарский остров исторически — странный периферийный район центра российской столицы, где смешались как будто бы несовместимые вещи. Ещё при Петре I здесь был организован военно-медицинский центр, состоявший из Аптекарского огорода и Инструментальной избы, превратившихся постепенно в Ботанический сад и группу предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
Большинство дореволюционных зданий на острове, как и на соседней Петроградской стороне, хранят атмосферу эдвардианской эпохи — они построены примерно в то время, когда по Лондону разгуливали Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Здесь есть несколько уникальных достопримечательностей. В сгоревшем и восстановленном в 1990-е годы деревянном доме 1890-х годов на улице Профессора Попова, 10, находится единственный в Петербурге Музей авангарда, а напротив — малопосещаемый, но очень достойный Музей фотографии.
На Аптекарском острове находился дом Общества для пособия нуждающимся литераторам имени В. Голубева, где доживали свои дни революционеры Герман Лопатин и Вера Засулич, а после революции здесь долгие годы жил и работал авангардист Павел Филонов. Этот дом стал основанием для названия улицы Литераторов, на которой он стоит. Рядом расположена лучшая в городе вилла в стиле модерн — особняк Марии Савиной. Между улицей Литераторов и Карповкой — один из главных шедевров ленинградской архитектуры 1930-х годов, Первый дом работников Ленсовета Евгения Левинсона.
Отличие Аптекарского острова от других районов старого Петербурга в том, что здесь не сложилось плотной структурированной застройки, и при этом он не стал заповедником, как Каменный остров. В результате, это самая зелёная, самая свободная и самая современная часть исторического города, которая во многом удачно преобразуется у нас на глазах.
В бывших корпусах завода «Ленполиграфмаш» напротив Ботанического сада сложился модный квартал: IT, гастрономия, концертный зал, где даёт премьеры команда Дома Радио. На проспекте Медиков по проекту бюро Semrén & Månsson возведён практически образцовый жилой комплекс. Рядом с апарт-отелем «Авеню» устроили первый и пока самый интересный в Петербурге контейнерный городок.
Авангард, неформальная культура, простая современная архитектура, фрагментарная застройка — всё это заставляет сравнивать Аптекарский остров с молодёжным Берлином 1990-х годов. Как и Берлин 30 лет назад, модный остров неизбежно станет одним из самых дорогих районов Петербурга. Чтобы направить это развитие в правильное русло, нужно сделать всего три вещи:
Начать с благоустройства Аптекарской набережной — она непременно должна стать прогулочной. Зеленые зоны важно тщательно сохранять, а в идеале и преумножать. Застройка неизбежна, но новая архитектура не должна уступать в привлекательности старой. Корпуса старых заводов должны сохраняться не только в качестве памятников архитектуры, но и как возможность создавать общественные пространства, открывать новые заведения и творческие площадки.
Нарвская — ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОД-САД
Территории между Обводным каналом и станцией метро «Кировский завод» превратились из пригорода в город в первые десятилетия XX века. Фабричная Нарвская застава с огромными заводами, монастырями, богадельнями до революции была непривлекательным, грязным местом, где жили преимущественно рабочие Путиловского завода. Советская власть долго не могла разобраться, как превратить имперский Петербург в социалистический Ленинград. Денег на то, чтобы разрушить до основания старый город и построить заново город Ленина, не хватало. Естественный первый порыв заключался в том, чтобы возводить Ленинград на фабричной периферии, триумфально превратить эту неблагополучную среду в лучезарный город-сад. Нарвская застава оказалась главным претендентом на подобное преобразование.
Как только в городе после окончания Гражданской войны появилась возможность хоть что-то строить, в 1925 году здесь стали возводить жилой массив на Тракторной улице (архитекторы Александр Гегелло, Александр Никольский, Григорий Симонов) и сопутствующие ему социальные объекты по соседству — Ушаковские бани (Александр Никольский), школу Десятилетия Октября (Александр Никольский), Дом культуры имени Горького (Александр Гегелло, Давид Кричевский) и фабрику-кухню с универмагом (Александр Барутчев, Иосиф Меерзон, Исидор Гильтер). Ни в одном другом месте в Петербурге нет такой концентрации конструктивистской архитектуры 1920-х и начала 1930-х годов, как вокруг Нарвских ворот.
Здесь всё старались сделать не так, как в городе XIX века. Последний был сравнительно высокий, очень плотно застроенный, еще плотнее заселенный, с массой эстетических излишеств и хаотично организованными внутренними пространствами домов и дворов. Рабочий район вокруг Нарвских ворот сделали скромным, функционально удобным и просторным, чтобы обеспечить обилие зелени и солнечного света. Наверное, нигде, кроме как у Нарвской, нельзя так полноценно увидеть, что представляла из себя коммунистическая утопия с точки зрения градостроительства. Неслучайно именно это место сразу после падения железного занавеса воспринималось иностранцами как культовое — особенно теми, кто увлекался левыми идеями.
После Великой Отечественной войны концепцию малоэтажного города на свой лад развивал главный архитектор Ленинграда Николай Баранов — с его легкой руки с другой стороны от площади появились кварталы жилых зданий в два-три этажа. Тогда казалось, что это место будет городской окраиной, почти пригородом. По нынешним меркам Нарвская находится близко от центра, у многих есть искушение застроить ее более плотно. И все же любовь к истории и разнообразию диктует скорее сохранение местного пейзажа именно в таком — в хорошем смысле слова — провинциальном виде. Главная сила любого мегаполиса заключается в том, что его части отличаются друг от друга: где-то остается традиционная застройка, а где-то строятся современные деловые кварталы, где-то людей и событий слишком много, а где-то жизнь протекает медленно и тихо.
Район Нарвской мог бы стать таким же заповедником авангардной архитектуры, как Белый город в Тель-Авиве. Для этого, в общем, нужно сохранять более или менее те качества среды, которые подразумевали авторы местных кварталов, — много зелени, комфорт, хорошо развитые общественные пространства как внутри зданий, так и на улице. Слишком интенсивное автомобильное движение нужно как-то успокоить, а любые планы по высотной застройке окрестностей — решительно отменить.
Любимое место Льва Лурье в Петербурге — МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ ЛИНИЯ
Лучшее, хотя и самое тревожное время жизни — юность. Я прожил большую часть жизни на Петроградской стороне, а вот учился в старших классах на Васильевском острове, в 30-й школе, а потом в ЛГУ. Первая четвертинка из горлышка была выпита в сиреневых кустах Менделеевской линии. Первая любовь, как солнечный удар, случилась у южного фасада Биржи, научные занятия начались в университетской библиотеке, важнейшие разговоры происходили в «Академичке» — университетском кафе, сделавшемся на наших глазах рестораном «Старая таможня». Здесь мало что поменялось с XIX века. Все те же чудесные композиции из чучел Зоологического музея, вызывающие ужас и восторг провинциалов двухголовые младенцы Кунсткамеры, мозаика Ломоносова в здании Академии наук, огромный коридор здания 12 коллегий, Соловьевский садик, а дальше — Академия художеств, сфинксы и ветер с Невы.
|
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте: |
||
 History*
History*