КВАНТОВАЯ ГРАВИТАЦИЯ ПРОТИВ ОВОЩЕБАЗЫ. Финалист премии "Просветитель" Геннадий Горелик о социальных эффектах теоретической физики
Опубликовано 2015-01-15 13:00
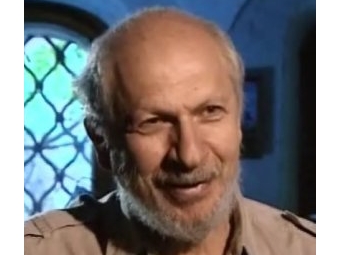
Одним из финалистов премии "Просветитель" этого года стал российско-американский историк науки Геннадий Горелик с книгой "Кто изобрел современную физику? От маятника Галилея до квантовой гравитации". Это название обманчиво, произведение Горелика – не очередной набор исторических анекдотов о великих ученых прошлого, а попытка осмыслить феномен современной физики, рождение которой автор связывает с деятельностью Галилео Галилея.
С точки зрения специалиста по истории физики 20-го века, Горелик, написавший биографии Андрея Сахарова, Льва Ландау и Матвея Бронштейна, исследует черты, объединяюшие современных теоретиков с первыми смельчаками, увидевшими за природными явлениями фундаментальные законы. Горелик отходит от традиционного канона научно-популярной литературы, его книгу нельзя назвать хвалой прогрессу и человеческому разуму. Автор лишает физику существенной части романтического ореола и переносит фокус со знания на человека.
В большом интервью Радио Свобода Геннадий Горелик высказал сомнение в ускорении научного прогресса, сравнил слепую веру в науку с попыткой построить коммунизм и рассказал, сколько нужно физиков, чтобы придумать одну новую идею.
– С чего для вас началась эта книга?
– C письма неизвестного мне американского физика с китайским именем. Он задал вопрос о моем главном герое – о физике Матвее Бронштейне. Завязалась переписка, и я понял, что этот китайский американец влюблен в моего героя почти так же, как и я, и так же близко к сердцу принимает трагедию короткой яркой жизни Матвея Петровича – его арестовали в 1937-м, когда ему было 30 лет, и вскоре казнили как "врага народа". Тем не менее, он успел войти и в историю науки, и в историю литературы, написав три повести о научных открытиях для детей. Новый знакомый читал мою книгу о Бронштейне, адресованную ученой публике, и стал убеждать, что нужен рассказ более доступный. Я бы и рад, но понимал, что не могу доступно рассказать о главной работе Бронштейна – о проблеме квантовой гравитации, которая ведь до сих пор не решена. А ограничиться “шорохом великих истин” не хотел, это, как говорил Ландау, обман трудящихся. Но стал размышлять и подумал, а не рассказать ли о самой профессии физика-теоретика? Как и чем он живет, почему это дело так увлекает? Затем уже можно и подойти к проблеме квантования гравитации.
– И так возник один из главных героев вашей книги – Галилей?
– Да, Галилей, подумал я, самый простой пример физика-теоретика. Открыл его книги – честно говоря, чтобы подобрать пару сочных цитат, и… зачитался. Впервые всерьез понял, что Галилей – гений, и влюбился в него. Обнаружил, что этот человек 17-го века, не зная даже нынешней школьной физики, мыслил совершенно так же, как физики-теоретики 20-го века. Тогда-то и встал вопрос: почему современная наука началась именно тогда, в 17-м веке? Ведь был Архимед, первоклассный физик, а после него пауза в целых две тысячи лет. Что же такое Галилей изобрел, что сделало физику “современной”, ускорив ее развитие раз в сто? Помогло мне, думаю, то, что я всю жизнь занимался физикой 20-го века. Деревья не мешали видеть лес, не отвлекали колоритные, но несущественные исторические обстоятельства, какой там был герцог и какую он зарплату обещал ученому и т. д. А выяснить надо было, когда и где возникло то новое, что фундаментально отличает современную физику от всего предыдущего.
Традиционно выделяют два отличия – эксперимент и математический язык. Но, поразмыслив, я понял, что у Архимеда было и то и другое: идеальная математическая форма и эмпирическая основа – ведь Архимед был и великим математиком, и замечательным инженером-изобретателем. А подлинно новый элемент – смелая свобода изобретать новые понятия, разумеется, исходя из размышлений над опытами, и в этом одно из главных моих открытий. Понятия вовсе не обязаны быть очевидными, поначалу они могут казаться нелогичными и даже абсурдными. Первое такое понятие изобрел Галилей, это – пустота. Он догадался, что законы нужно формулировать для движения в пустоте, с которой он в своих опытах фактически дела не имел. Во-вторых, Галилей ввел понятие ускорения. На языке того времени говорили о быстроте, о стремительности. Если говорили, что нечто “быстро падает”, оценивали движение целиком. А Галилей понял, что в пустоте все тела падают с одинаковым ускорением, что за единицу времени скорость меняется на одинаковую величину, и эту величину, ускорение свободного падения, он измерил. Это был прорыв! Так были открыты первые фундаментальные законы природы.
– И что же, частота таких прорывов затем всё увеличивалась? Есть ли эффект накопления, который приводит ко все более частым озарениям?
– В развитии фундаментальной науки такого эффекта нет. В отличие от техники, где, например, радио изобрели практически одновременно Попов в России и Маркони в Италии, новые идеи фундаментальной науки в воздухе не носятся. Большая идея рождается в уме одного человека, обычно без особых предвестников и понимания коллег. Возьмите открытие Коперника. С точки зрения современных ему астрономов, система Птолемея прекрасно работала. Ее надо было время от времени немного уточнять, но предсказать солнечные затмения и другие астрономические явления вполне получалось. Идея Коперника была совершенно неожиданной, и это – типично для фундаментальной физики, в этом очарование ее непредсказуемости.
Давайте пройдемся по истории. Прорыв Галилея – начало 17-го века. Следующий прорыв – лишь через 80 лет, это Ньютон с его новым понятием всемирного тяготения и общим понятием силы. А следующий прорыв сделал аж почти два века спустя Максвелл с помощью понятия электромагнитного поля. Далее, примерно через тридцать лет – Планк и понятие кванта. Вслед за этим – в течение первых трех десятилетий 20-го века – целая гроздь открытий – фотон, пространство-время, скачки Бора, квантовая механика. А затем прорывы такого масштаба иссякли.
– Почему же эта гроздь появилась именно тогда? Может быть, были какие-то социальные причины?
– Социальные причины искали, например, пытались связать развитие науки с революционной атмосферой начала 20-го века. Но я не думаю, что это связано. Планк, например, совершенно не был революционером по характеру, он даже свое революционное открытие хотел как можно скорее заменить на что-то более спокойное, найти какое-то консервативное объяснение. Эйнштейн был более свободен в этом отношении, но тоже не искал революции ради революции. Искали понимание необъяснимых опытов и решали возникающие внутренние противоречия теории.
В то же время, взлет советской физики в 20-30-е годы был связан с энтузиазмом "научного социализма". Впрочем, тогда считалось, что "решает всё – техника", а не наука, и газетный шаблон был "техника и наука", а не "наука и техника". Профессия инженера была самой престижной. И это было полезно для науки – в нее шли не за престижем, а по призванию. Только после войны Сталин понял, насколько физика может быть важна для государственной мощи – для создания атомной бомбы, ракет и радиолокации. Зарплаты ученых увеличились в три раза, резко повысился их общественный престиж, государственные дачи, машины. Но фундаментальных прорывов не последовало.
– Видимо, большие открытия 20–30-х требовали осмысления, на это ушло много сил и времени научного сообщества.н
– Именно. После возникновения фундаментального принципа нужно объяснять конкретные явления. И это огромная задача. Например, нужно было на основе новых прорывов понять полупроводники, а уж потом придумывать на их основе новую технику. Или возьмите сверхпроводимость – явление открыто в 1911 году, и 40 лет никакого объяснения, хотя многие пытались, включая Эйнштейна. Применение фундаментальных принципов – важная и самая объемная работа. Явлений много, и только проверка принципов на этих явлениях оправдывают сами принципы.
– Получается, мы уже больше чем полвека живем за счет прошлых великих открытий, новых практически не происходит. Почему?
– Новых прорывов нет, но все больше научных сотрудников. Когда наука стала многочисленной, в ней возникли социальные эффекты. Теперь это сообщество, с иерархией, со своими способами самоподдержания, самозащиты и, соответственно, увы, злоупотребления. От этого никуда не денешься. Внутри науки идет борьба за ресурсы, естественно, ограниченные. Еще в 80-е годы физики твердого тела обижались: у них полно нерешенных задач, а огромные деньги тратятся на сомнительные задачи сверхмощных ускорителей. А все потому, что от физики высоких энергий власть имущие – по обе стороны железного занавеса – по инерции ожидали: быть может, еще какую-то новую бомбу придумают. Когда холодная война закончилась, этот аргумент перестал работать. Что теперь могли сказать физики высоких энергий? Что еще один фундаментальный закон откроют? А может, не торопиться и придумать, как это сделать подешевле? И недостроенный сверхускоритель в США, на который уже было истрачено 2 миллиарда долларов, попросту закрыли.
– В последние годы в борьбе за ресурсы побеждает, кажется, квантовая гравитация и теория струн.
– Материальных ресурсов на это много не требуется, а вот людские… Есть оценка, что в этой области работают от 2 до 5 тысяч теоретиков. Тысячи людей считают себя как бы Эйнштейнами – ведь все они надеются открыть новый суперзакон природы. За последние 30-40 лет они опубликовали десятки тысяч научных статей, но никакого экспериментально подтвержденного результата так и нет. Пять тысяч Эйнштейнов – не многовато ли? История науки не знает примера, чтобы усилия большой группы приводили к фундаментальному теоретическому прорыву. Похоже, мне кажется, здесь работает какой-то эффект толкучки, люди локтями мешают друг другу. Эта "тусовка" распадается на группы по интересам, теоретики тоже люди – и амбиции, и ревность, и конкуренция не всегда симпатичная. Возникают социальные эффекты, ранее в жизни науки неизвестные.
– И мерой успеха является не научное открытие, а публикация?
– Людям нужно демонстрировать, что они работают, а для этого нужно публиковать тексты, другого способа просто нет. Научная работа в понимании поколения Ландау означала предсказание четких явлений, которые могут быть количественно проверены. А когда сочиняют математическую сказку, как бы она ни была красива, это еще не физика. Эйнштейн когда-то сказал Вейлю, математику, создавшему первую геометрическую "единую теорию поля": “Ваша теория очень красива, но к реальности отношения она не имеет”. Если с такой строгой меркой подходить к публикациям сегодня, всем этим тысячам теоретиков будет нечего делать. Поэтому они и ищут оправдания, говорят, что экспериментальная проверка не обязательна, поскольку это слишком трудное и дорогое дело. Но надо придумать, как сделать проще и дешевле, – в этом-то и фокус!
Некоторые теоретики сейчас говорят, что наука того типа, что создавали Галилей и Эйнштейн, закончилась, закончилась современная наука, и начинается новый этап – постмодерновая, постсовременная, "безопытная" наука. Я в это не верю. Но мало ли, во что я не верю. История науки непредсказуема, и если вдруг окажется, что теория струн способна делать проверяемые предсказания, придется взять слова назад.
– Но ведь естественные науки как раз стремятся объяснить мир универсальными законами? Разве не соблазнительно попробовать применить научный метод познания везде?
– Попытки строить идеальное общество, когда наука толком не понимает, что такое человек, что такое его сознание и его совесть, до сих пор плохо кончались. Первые строители коммунистического светлого будущего исходили из самых идеалистических побуждений, но вымостили дорогу в ГУЛАГ. Так что опытная проверка сделана, и, увы, на людях. А ведь многие верили, что коммунизм – научная неизбежность. И многие физики тоже. Симпатии западных физиков прошлого века к социализму иногда кажутся противоестественными. Игнорировали мрачные проявления советского строя, говоря: ну, да, там что-то странное происходит, но зато бесплатное образование…. И все потому, что сама идея научного социализма резонировала с их научным идеализмом. Работая над биографией Андрея Сахарова, я обнаружил, что у него слово "социализм" долгое время вызывало светлые чувства, прежде всего из-за его учителя Игоря Евгеньевича Тамма, который стал социалистом еще до революции. И только выйдя из своей секретной науки в реальную советскую жизнь, Сахаров понял, что концентрация всей власти – политической, экономической, идеологической – в одних руках делает государство и общество нежизнеспособными. Если социализм понимать как заботу общества о тех, кто не может о себе позаботиться по возрасту или по болезни, на Западе такого социализма гораздо больше, чем в номинально социалистическом СССР. И это достигнуто без марксизма-ленинизма, с помощью каких-то, с советской точки зрения, "полумер". Не стоит безоглядно верить в силу науки, пока мы не понимаем, что такое живая амеба, чем она отличается от "вареной". Нам иногда недостает скромности.
– То есть вы призываете, грубо говоря, отказаться от изучения Вселенной и обратиться к тому, что ближе, что у нас под ногами.
– Нет, я не призываю никого ограничивать и, тем более, не предлагаю тех, кто размышляет над суперструнной мультивселенной, направить на овощные базы. Но концентрация на том, чтобы открыть полную и окончательную "теорию всего", без ясного осознания конкретной проблемы, требующей решения, чревата личным крахом: не добьешься цели и будешь думать, что жизнь прожита зря. Не лучше ли преподавать надежно обоснованную науку или применять ее практически, а о высоконаучных вопросах размышлять в свободное время? Как, например, это делал Эйнштейн, работая в Патентном бюро.
– Вы стали в этом году финалистом премии “Просветитель”. Чувствуете в себе склонность к просвещению?
– Меня ужасно интригует само понятие просвещения. Что это? Чем просвещение отличается от популяризации науки и от образования? Если объяснить человеку, что вода состоит из молекул, что в каждой два атома водорода и один атом кислорода, человек от этого просветится? Вряд ли. В советское время были замечательные научно-популярные журналы: "Знание – сила", "Наука и жизнь", "Техника молодежи", "Природа", я и сам их рьяно читал. Но утверждать, что советское общество было просвещенным, язык не поворачивается. Солженицын ввел термин "образованщина", когда человек знает много чего, но, например, не знает, что обладает неотъемлемыми правами и свободами, что насилие неприемлемо, что любить или хотя бы не обижать ближнего своего – это хорошая основа для общественной жизни, для внимания друг к другу и стремления понять других.
– Ваша книга вообще выделяется из научно-популярного жанра, потому что вы не поете оду безграничной мощи человеческого разума.
– Я бы сказал, что эта книга – ода свободе, без которой невозможна наука. А подлинная свобода неразрывно связана с ответственностью. Свободная Ева решила вкусить плод Древа познания, потому что ей до смерти хотелось знать, так же как и людям науки, и она за это ответила. Свобода сцеплена с ответственностью, с верховенством закона, который только и может охранять свободу и предохранять ее от превращения в произвол. Такая свобода лежит в фундаменте цивилизации, в которой родилась современная наука. Поэтому в моей книге главный герой – это свобода.
источник: радио Свобода. Квантовая гравитация против овощебазы
|
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте: |
||
 Considerations and thoughts*
Considerations and thoughts*